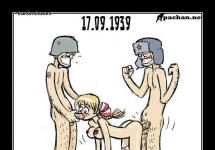В пасхальный понедельник 1204 г. участники Четвертого крестового похода ворвались в Константинополь . Впервые пала гордая, богохранимая столица преемников Константина Великого . Твердыня, некогда устоявшая перед полчищами персов и победоносного халифата, была захвачена сборною дружиною в 20 000 человек. Как только крестоносцы взяли стены, громадное греческое население до 400 000 человек было охвачено паническим страхом, сопротивлялись немногие, без системы. Без боя были захвачены отчасти укрепленные великолепные дворцовые кварталы: Влахерны с остатками царской гвардии, Большой дворец верхний и нижний, приморский Вуколеон.
Осада Константинополя крестоносцами. Картина П. Лежёна, рубеж XVI-XVII веков
Богатые жители заперлись в своих домах; простой народ, женщины и дети при виде рыцарей складывали пальцы крестом, крича: «Да здравствует святой царь маркиз», т. е. вождь крестоносцев Бонифаций Монферратский. Вооруженные греки толпой загородили улицы, тесня и давя друг друга, они спешили покинуть город; часть их, как Феодор Ласкарь , переправлялась на азиатскую сторону. Кровопролитие было не так велико, как можно было ожидать от разъяренных рыцарей, погибло всего около 2000 греков. Притом убивали, по словам очевидца, преимущественно бывшие с крестоносцами латинские купцы, изгнанные греками из их кварталов во время осады. Рыцарей привлекала неслыханная добыча. Убит был из них всего один, и тот случайно. Участник похода парижский каноник Гюнтер, прерывая свой рассказ лирическими отступлениями в стихах, сохранил нам во всей свежести настроение благочестивых грабителей:
Вторгнись, доблестный воин Христов,
Вторгнись в город, Христом данный победителю.
Смотри: царь миролюбивый Христос на осляти
Предшествует тебе с радостным лицом.
Ты воюешь за Христа, исполняешь приговор
Судии Христа, твое желание впереди твоего оружия.
Вторгнись, грози, гони робких, наступай сильнее,
Голосом греми, потрясай оружием, но не проливай крови!
Вселяй страх, но помни, что братья
Те, кого ты теснишь, это они заслужили своею виною.
Христу угодно обогатить тебя добычею виновных,
Да не ограбит их иная победоносная нация.
Вот тебе палаты, полные вражеских богатств,
Издревле накопленное добро получит новых хозяев.
Ты же пока придержи дух свой и руки,
Отложи на время и презри грабеж,
Несись на трусов, жестоко тесни побежденных,
Не дай им вздохнуть и усталым собраться с силами.
Когда все враги будут выгнаны из города,
Тогда лишь настанет время для добычи и можно грабить побежденных!
Толпы отступавших от крестоносцев греков в беспорядке запрудили улицы. Никита Хониат , сановник и историк, пережил с семьею эти мрачные дни в Константинополе. Его рассказ изложен риторически, согласно вкусам эпохи, но полон глубокого горя и негодования.
«В день взятия города, - описывает он, - хищники расположились на ночлег повсюду и грабили все, что было внутри домов, не стесняясь с хозяевами, наделяя иных ударами; кого они уговаривали, кому грозили по всякому поводу. Все они получили или сами нашли: часть лежала на виду или была принесена хозяевами, часть разыскали сами латиняне, пощады у них не было никакой, и ничего они не отдавали собственникам обратно. Общий кров и стол не повели к сближению, наоборот - латиняне оказались подозрительными и необщительными, приводили или прогоняли своих хозяев с оскорблениями. Потому их начальники сочли за лучшее разрешить желающим уйти из города. Собираясь партиями, жители уходили, одетые в рубище, изнуренные бессонницей и осунувшиеся, видом мертвецы, с налитыми кровью глазами, будто плачущие кровью, а не слезами. Одни горевали о потере имущества, другие уже не удручались этим, но оплакивали похищенную и поруганную девицу-невесту или супругу, каждый шел со своим горем».
У Хониатов был в Константинополе родовой дом, «несравненный по красоте и величиною величайший», в квартале Сфоракия, в центре города. Он сгорел во время второго пожара при взятии города воинами Четвёртого Крестового похода . Семья Хониата думала найти безопасное убежище в соседнем храме Софии, но крестоносцы у входа расставили стражу, перехватывали всех искавших в храме спасение и уводили куда у них было постановлено. На семейном совете Хониатов было решено искать другого убежища. Был у них знакомый венецианец, некогда принятый у них в доме, а теперь он оказался им полезен. Облачившись в панцирь и переменив купеческую одежду на воинскую, он оттонял подходивших грабителей от дома, где приютились Хониаты, делая вид, что он их соратник и ранее захватил себе этот дом, говоря с ними на их языке. Когда же они подошли толпою и ему было не под силу сдерживать их, особенно когда подступили крестоносцы-французы, которые и храбростью и ростом превосходили прочих и хвастались, будто боятся лишь того, как бы на них не обрушилось небо, венецианец предложил семье Хониата удалиться, чтобы они не попали в плен, угрожавший мужчинам оковами, а женщинам надругательством и уводом на бесчестье. Под предводительством венецианца, бывшего их домашнего человека и клиента, теперь же ставшего помощником и защитником, Хониат с семьею поодиночке перебрались в дом знакомых ему венецианцев как плененная добыча, влекомые за руку, удрученные и плохо одетые. Но так как и тот квартал попал в долю французов, Хониаты должны были снова искать себе убежища, причем все слуги бесчеловечно их покинули и разбежались. Знатным Хониатам пришлось самим нести малолетних детей на плечах, и сам Никита нес на груди своего мальчика-сына, и так пришлось идти им по улицам. Проведя в Константинополе пять дней при таких условиях, решили и они уйти из города. Была суббота, и наступила зима, а супруга Хониата была беременна, как сказано в Писании, «молитесь, да не придется вам бежать зимою и в субботу» и «горе носящим во чреве в дни те». Собралось несколько знакомых, родных и присоединившихся к уходящим, и пошли, как вереница муравьев. Навстречу попадались крестоносцы не в полных доспехах, но с длинными мечами, висевшими у седла, и с кинжалами за поясом; одни были нагружены добычей, другие вели пленных и щупали их, не скрыта ли под лохмотьями ценная одежда, не спрятано ли на груди золото или серебро. Иные уже уставились глазами на женщин, выделявшихся красотою, как бы собираясь немедленно схватить их и совершить насилие. Опасаясь за своих женщин, Хониат их поместил посреди мужчин, а девушкам намазали щеки грязью вместо прежних притираний, чтобы скрыть их румяные щеки и чтобы румянец не привлек, как огонь ночных путников, сначала зрителей, потом воспламененных любовью, затем и насильников, уверенных в безнаказанности. Поднявши молитвенно руки к небу, с бьющимися в груди сердцами и со слезами на глазах беглецы не знали, всем ли мужчинам и всем ли женщинам удастся миновать неистовых зверей-крестоносцев. Путь шел на Золотые ворота Константинополя. У храма великомученика Мокия некий насильник и безбожник-варвар вырвал из середины беглецов, как волк ягненка, пригожую девицу, дочь одного судьи. Изнуренный болезнями старик отец упал на землю и, катаясь по грязи, простирал руки к Хониату, умоляя спасти дочь. Хониат побежал по следам похитителя, останавливая прохожих, хватая их руками и крича о помощи всем, кто мог понять его греческий язык. Нашлись участливые люди из латинян, погнались за бесстыдным плотоугодником и застали его у ворот дома, куда он загнал девушку. Вы постановили, кричал Хониат, не допускать поругания замужних, девушек и монахинь! Умоляю о помощи именем семей ваших, Гроба Господня и заповедей Христа! Собравшиеся крестоносцы начали грозить похитителю виселицей и уже собрались перейти от слов к делу, когда он отдал девушку, и Хониат отвел ее к отцу. Выведя всех за стены Константинополя, он бросился на землю и зарыдал. Ему было что оплакивать! Стояли стены, но лучшая часть Константинополя погибла от огня и меча крестоносцев. Ему хотелось верить в ту минуту: стены ждут, когда восстанет грозный мститель за народ свой, Господь на Западе, по пророчеству Давида. В развалинах дымился царственный град и чертог Всевышнего, хвала, честь и приют слуг Его; чудо из чудес мира стало долиной плача. Когда он восстанет вновь, окруженный поклонением унизивших его, когда будет пить молоко народов и по-прежнему насытится богатствами царей? Когда его дети совлекут с себя рубище и облекутся в светлые тканые хитоны? Святейший город должен указать Богу на свои храмы и мощи мучеников, на все свое горе по слову: «Призови Меня в годину бедствия, и Я возвеличу тебя».
Таково было настроение у Хониата. Но, приехав с семьею из Константинополя в Силиврию, он встретил у местных крестьян вместо участия насмешки и злорадство. Они радовались, что богатые византийцы разорены и попали на один с ними уровень; они даже разбогатели, скупая у крестоносцев награбленное за бесценок. Столица далеко не заслужила любви провинциалов, и, повторяя самого Хониата, она слишком много «пила молоко народов». Народного восстания на выручку Константинополя не могло быть: простонародье, в том числе и столичное, видело в завоевании смену одних господ другими и даже надеялось на лучшее. Хониат понял и хорошо ответил: «Они еще познают латинян, съедающих разом по быку и изрыгающих вместе с чистым (неразбавленным) вином чистую желчь». Через полвека восстановитель Греческой империи встретил уже действительно иное отношение фракийских крестьян, но и последних осталось мало.
Тем временем в городе шел неслыханный грабеж, какого Константинополь не видал ни раньше, ни позже. Тогда богатства, особенно святыни, были еще целы. Туркам в 1453 г. досталось несравненно меньше. Турки меньше награбили, но больше убивали; крестоносцы, как христиане, поступали наоборот. После латинского разорения Константинополь никогда не оправился; обедневшему царству было не под силу восстановить тысячелетние несравненные богатства, накопленные с IV и V столетий. Памятники классического искусства и святыни апостольских времен погибли или рассеялись по всем углам Европы.
Перед грабежом огненная стихия сделала свое дело. Около трети всей площади Константинополя лежало в развалинах. В последние дни осады три громадных пожара уничтожили центральные населенные кварталы. Некому было тушить, причиной были поджоги крестоносцев. Еще перед свержением Алексея Ангела 17 июня 1203 г. венецианцы, захватив нынешний Фанар, подожгли соседние дома. Огонь опустошил обширную долину от крутого холма, где был расположен монастырь Христа Евергета, на северо-запад до самого Влахернского дворца; выгорела часть Девтера, примыкавшая к Адрианопольским (Харсийским) воротам. Это были кварталы, наполненные частными, но богатыми домами; обнесенные стенами монастыри Евергета, Пантепопта, Старой Петры, Хоры не пострадали. Уцелели окружавшие храм Апостолов или расположенные на высоком холме Петрия еще более аристократические кварталы Константинополя, летом прохладные, царящие над Золотым Рогом, полные дворцов цариц и женских монастырей; их, может быть, спасли гигантские открытые цистерны Аспара и Бона, ныне вмещающие целые кварталы на своем высохшем дне. Все-таки панорама пожара, бушевавшего перед террасами Влахернского дворца, потрясла даже царя Алексея Ангела .

Участники четвёртого крестового похода у Константинополя. Миниатюра к венецианской рукописи "Истории" Вильгардуэна, ок. 1330
Менее чем через два месяца, 22 - 24 августа, случился несравненно более опустошительный пожар, настоящая катастрофа для Константинополя и его памятников. Толпы пизанцев, венецианцев и французов разграбили мусульманский квартал и, выбитые греками, подожгли соседние постройки в разных местах одновременно, «зная уже по опыту, что огнем всего легче уничтожить город». Некому было тушить огонь, а дул северный ветер. Этот пожар Константинополя стих лишь вечером следующего дня, истребив всю середину города - от Золотого Рога до Мраморного моря. Пламя перекидывалось на отдаленные кварталы, возвращалось на уцелевшие промежутки и сливалось в сплошное огненное море; снесенные в безопасные, казалось бы, места пожитки гибли внезапно, и люди теряли голову. Горящие головни зажигали даже корабли в гавани. Мраморные портики и памятники на площадях перегорали в известь, не спасали ни кирпичные стены, ни высокие террасы. От этого поджога крестоносцев погибли лучшие кварталы Константинополе. Мусульманская мечеть, с которой начался пожар, находилась в квартале Митата, на спуске к Рогу, вблизи св. Ирины Морской, построенной в V в. на самом берегу, у нынешнего моста. Следовательно, пизанцы и венецианцы подожгли те улицы, которые прилегали к их договорным кварталам, отведенным Комнинами, за несколько дней ранее сожженным греками. Так как дул северный ветер, то он погнал пламя через форум Константина к Мраморному морю, и действительно сгорели те лучшие, центральные кварталы Константинополя, которые были расположены в этом направлении.
Выше итальянских кварталов были расположены кормившие Константинополь казенные хлебные склады еще с IV в. Вверх до самого Среднего проспекта (Месы), главной артерии города, пролегавшей по хребту константинопольских холмов, тянулись торговые кварталы, каждый со своей физиономией. Тогда, как и теперь, мастера одного цеха располагались рядом, образуя кварталы с соответственными именами: Халкопратии (Медный ряд), Аргиропратии (Серебряный ряд), Керополии (Свечной), Артополии (Хлебный), Влаттополии (Шелковый и Пурпурный) и т. д. Снаружи и, вероятно, с внутренней стороны торговые ряды представляли из себя портики или гостиные дворы, часто в два этажа, с открытыми комнатами без окон, закрываемыми лишь на ночь; мастера и купцы сидели со своими товарами почти на улице. Для производства у всех соседей существовали общие шаблоны и нормы. В некоторой связи с организацией специальных рядов находилась организация торгово-промышленных корпораций, известных из устава епарха ок. 900 г. Константинопольские торговые ряды были велики и обслуживали далеко не одну столицу. Здесь находились оптовые склады местных и привозных товаров, регулировавшие спрос и предложение, господствовавшие над торговым обменом Востока и Запада; в этих товарах были помещены капиталы местных и иногородних купцов. Мастерские Константинополя, особенно шелковых и шерстяных тканей, изделий из металлов, драгоценностей и художественных произведений (эмаль, слоновая кость), работали на экспорт, для которого даже Англия и Кавказ не являлись крайними рынками сбыта. Потому пожар, истребивший эти кварталы со всеми товарами и богатствами, оказался настоящей катастрофой для всей восточной торговли, гибелью вложенных капиталов, накопленных и унаследованных состояний. Разорение купечества порвало традиционные деловые связи и погубило личный кредит, т. е. самую возможность восстановить утраченное. Торговля стала искать иных путей, минуя Константинополь. Разорение целых корпораций мастеров вызвало упадок и даже прекращение производств, процветавших столетия и державшихся на унаследованных навыках и секретах; так, например, столь славные художественные изделия из перегородчатой эмали исчезают, по-видимому, с XIII в.
Любопытно отметить, что нынешний район турецкого Большого Базара и в византийское время был базарным, и в нем так же, как и теперь, торговали преимущественно мануфактурой; так что Магомет, устраивая знаменитый Безестен, в сущности, вновь отстроил портики и перекрыл сводами переулки между ними на пространстве целого квартала, но, конечно, лишь в части торговых районов XII в. Западная половина последних пересекалась большой улицей по имени Длинный Портик и спускалась от форума к Рогу, по ней ездили иногда цари из Большого дворца во Влахерны. И теперь по тому же приблизительно месту пролегает улица, полная магазинов, и носит также имя Узун Чарши, или Длинный Рынок.
Итак, за два дня устроенный крестоносцами пожар Константинополя нанес его торговле и промышленности такой удар, который уже не был залечен. Поднявшись на верх гряды, по которой проходила Средняя улица, пожар истреблял уже не только товары и магазины, но и лучшие памятники античного искусства, колоссальные статуи, привезенные из городов Ионии и Эллады, уничтожая монументальные постройки времен Константина Великого. Сдержанный на юго-западе площадью Тавра, огонь направился прямо на форум Константина, бывший центром и священным украшением царственного града. Здесь сходились главнейшие пути, почти все крестные ходы останавливались на форуме и служили литии; при торжественных выездах императоры принимали на форуме славословия городских димов и при триумфах попирали шею пленных варваров. На площади и дальше по Месе были расположены часть присутственных мест, суды, библиотека и академия, портики, где собирались адвокаты и дельцы, гостиницы для приезжих и весьма близко ипподром - сборище всего населения; имевшие дело в торговых кварталах и в гавани и, наоборот, возвращавшиеся в жилые, тихие кварталы Константинополя проходили обыкновенно через форум. Со времен Константина Великого площадь была украшена со всею роскошью и величием, на какое была способна процветавшая мировая держава. Вымощенный большими плитами, как атрий храма, овальный форум Константинополя открывался на восток и запад апсидами, или триумфальными арками; их украшали золоченые статуи Константина Великого с семьей и при них двух архангелов-стражей, а также кресты, символы торжества христианской империи («сим победиши»). Между арками площадь огибали двухэтажные портики из белого проконнесского мрамора с античными статуями; на открытом месте площади были расставлены монументальные кресты, двенадцать статуй из красного порфира и столько же позолоченных сирен, изваяния животных и таинственные зодиаки мага Аполлония Тианского - средневековый музей. В центре высилась величественная колонна из громадных блоков красного порфира, скрепленных золочеными обедами, наверху стоял крест; в основании гигантского цоколя с мраморною лестницею, где умещалась целая часовня, были зарыты христианские святыни и палладиум города, статуя божества Тυχη (Судьбы). С севера примыкало второе здание сената, построенное Константином, как и первое, у Софии , - круглое и высокое, с высокой колоннадой из 4 массивных колонн в сторону площади - вроде большого мавзолея, здесь уже собраны бесценные памятники античного искусства: вход был украшен знаменитыми бронзовыми скульптурными дверьми из храма Дианы Эфесской, под портиком или рядом с ним стояли колоссальные бронзовые статуи Афины и Амфитриты с клешнями на голове, вывезенные с Родоса.

Взятие Константинополя крестоносцами. Картина Э. Делакруа, 1840
От арок константинопольского форума в обе стороны тянулись казенные двухэтажные портики, несмотря на неоднократные пожары все еще роскошно украшенные. На запад, в сторону Тавра, по Хлебному рынку, стоял крест Константина, арка, Анемодулий - хитрый памятник александрийского искусства - и другие; на восток Средняя улица продолжалась лишь с полверсты, расширяясь в площадь Милия и Августея. Здесь находились палаты Лавса, где помещался высший царский суд по гражданским делам, преторий градоначальника с полицейским судом и тюрьмою, немного вниз - знаменитый Халкопратийский храм с Ризою Богоматери, к востоку от него - разукрашенная статуями по главному фасаду базилика с Октагоном - центр умственной и учебной жизни столицы, ближе к Милию был квартал Сфоракия с храмом Феодора. Здесь в Константинополе были уже и частные большие дома, как Хониата, но выходили уже и торговые ряды, заполняя промежутки между общественными зданиями, составляя для них оживленнейший фон: упоминается Смирний, рынок ароматов и пряностей, назад к константинопольскому форуму - Четырехугольный портик, Кожевенный и Меховой ряд и ниже, доходя до Халкопратийского храма, Медный и Серебряный ряды. По другую сторону Средней улицы, в сторону ипподрома, был двор Антиоха с рядом гостиниц; для их потребностей служила цистерна Филоксена, сохранившаяся поныне; на площадь перед Софией выходили древние бани Зевксиппа, уже утратившие к XII в. свою былую роскошь и скульптуры; ближе к форуму выходил на Месу ряд церквей: Юлиана Египтянина, Евфимии, Сорока Мучеников и на самом форуме - храм Богородицы.
Не перечисляя всех погибших от рук крестоносцев построек Константинополя, Хониат определенно передает нам, что кругом форума Константина, и на север и юг от него все, от моря до моря, сделалось добычей пламени. Мраморные портики обратились в известь. Только порфировая колонна Константина на форуме высилась одиноко среди дымящихся смрадных развалин, и до наших дней стоит она обгорелая. Даже северная сторона ипподрома, его амфитеатра, террас и служебных пристроек пострадала, но огня к Большому дворцу не пропустила.
Через Зевксипповы бани и портики Милия устроенный крестоносцами пожар прорвался до самой Софии, окруженной церковными и частными домами с тесными проулками, и дошел до патриарших палат «Длинного покоя» и «Синодов»; но здесь каменная масса св. Софии его остановила. Западнее ипподрома пожар дошел до Мраморного моря. Здесь, в Домниновых рядах на Мавриановом дворе, стоял в Константинополе - и теперь стоит в Стамбуле - храм Анастасии V в., термы Дагистея с громадным залом, где городские димы избирали своих старшин; в начале Девтера стоял храм Анны, богатая постройка Юстиниана, с другими, меньшими церквами. По морскому берегу пожар разошелся на несколько верст, так как достиг до квартала Елевферия. Эта местность, известная во времена Аркадия под именем Нового Города, в отличие от старого Акрополя, была густо заселена с IV - V вв.; здесь стояли церкви, приписываемые Константину, имена позднейших известны десятками. Константинопольские гавани Софианская (названная по соседнему дворцу и кварталу жены Юстина II ) и Гептаскалон в XIII в. были еще не засорены и сосредоточивали около себя рабочее простонародье; выше лежали бывшие дворы вельмож VI и V вв. Амантия, Дария, Нарзеса, давно превратившиеся в кварталы, застроенные церквами, монастырями, частными и казенными зданиями. Все это погибло или пострадало от вызванного крестоносцами пожара. Без преувеличения он уничтожил лучшую, среднюю часть столицы.
При самом взятии, 12-13 апреля, немецкие крестоносцы подожгли ту часть прибрежья Золотого Рога, которая уцелела между двумя описанными пожарищами - между монастырем Христа Евергета и воротами Друнгария, истреблены были кварталы Дексиократа и Арматия. По словам Вилльгардуэна , при этом третьем пожаре погибло больше домов, чем насчитывалось в трех самых крупных городах Франции. Были и другие пожары после взятия Константинополя крестоносцами. Так, знаменитейший в византийской истории Студийский монастырь был крестоносцами не только разграблен, но и сожжен, и храм оставался без крыши до конца XIII в., когда был возобновлен Константином Палеологом , а по усадьбе монастыря в XIII в. паслись овцы. Следы пожара именно времени латинского разорения обнаружены при работах Русского Института. Тогда же погорел в Константинополе великолепно отстроенный Василием I храм Диомида в самом углу между Золотыми воротами и морской стеной, так как при возобновлении соседнего Студийского храма в конце XIII в. были употреблены кирпичи с клеймом «св. Диомида»; очевидно, Диомидов храм лежал в развалинах, равно как и знаменитый храм Мокия поблизости, из развалин которого брали материал для укрепления башен у Золотых ворот.
Население Константинополя привыкло к пожарам и стихийным бедствиям, о них напоминали им ектений на каждой обедне; были и особые народные молебствия и крестные ходы. Но если горячая вера, а также привычка ко всяким несчастиям и помогли бы населению пережить, перетерпеть и такое разорение, то неизбежные материальные последствия катастрофы города должны были сказаться во всей силе. Половина населения Константинополя осталась после взятия его крестоносцами без имущества, без крова, без занятий, а другая половина была ограблена латинянами. Все «законные дети Константинова града» утратили при этом не только свое царство, но почти всю обстановку повседневной жизни, свой несравненный город, его удобства, чем привыкли любоваться и гордиться. Даже храмы Константинополя со «вторым небосводом» Софией были отняты католическим духовенством крестоносцев, а в церквах была вся духовная жизнь греков, особенно женщин. Оставался один исход - эмиграция для тех, кто мог уехать.
Константинополь XI-XII веков – жемчужина средиземноморья, центр культуры, музыки и архитектуры. Богатства и роскошь этого города поражала любого путешественника. Такого великолепия дворцов, фонтанов, скульптур и храмов не было на то время ни в одном из европейских и азиатских городов. Населением этот город превосходил любой другой в разы. Сюда стекались поэты, музыканты, писатели, летописцы, скульпторы и художники со всего света. Кроме того, здесь была развита и наука. Существовало множество школ, семинарий и даже университет. Процветала торговля, земледелие, а разнообразие и мастерство здешних ремесленников было известно далеко за пределами Византийской империи. По этим причинам, Константинополь был не только предметом восхищения других народов, но и предметом их зависти. Его богатства не раз становились объектом желания и набегов. Но, все же, он стоял, как древнегреческий колосс, скрывая свои великие богатства и знания за огромными крепостными стенами, защищающими его от враждебного и завистливого внешнего мира.
Но рассвет Византийской империи сменился ее упадком. Причиной этому послужили крестовые походы европейских властителей на Иерусалим. Первым тревожным звонком для византийцев стал уже Первый Крестовый поход. В июле 1096 года в окрестностях Константинополя появились первые крестоносцы. В основном, это были крестьяне. Плохо вооруженные, голодные и уставшие, они шли не только ради религиозной идеи – вернуть святыни христианам, но и бежали от нелегкой жизни в поисках рая небесного. Возглавлял их монах Петр Пустынник. Византийскому императору Алексею Комнину, несмотря на начавшиеся беспорядки и грабежи, все же удалось быстро переправить многотысячное ополчение крестоносцев через Босфор, избежав тем самым более серьезных последствий.
Потерпев поражение под Никеей, крестоносцы вернулись. Часть из их осталась под Константинополем дожидаться подкрепления. И в декабре того же года оно прибыло. Это было уже не крестьянское ополчение, а настоящие солдаты, ведомые немецкими рыцарями. Их возглавлял Готфрид Бульонский. Напряжение между войском крестоносцев и византийцами возрастало и достигло своего апогея в апреле 1097 года, вылившись в открытое столкновение. Сражение велось в окрестностях и на крепостных стенах столицы Византийской империи. На этот раз, благодаря личной гвардии императора и щедрым дарам, византийцам удалось одолеть противников. Оставшаяся часть войска крестоносцев отправилась на святую землю.
И вновь на византийскую землю пришли западные рыцари и вооруженные паломники. Опять начались грабежи, поджоги и другие бесчинства, творимые «святым воинством». Возглавляемые Раймундом Тулузским, после долгих переговоров и множества щедрых даров, крестоносцы приняли присягу императору и стали его вассалами. А весной 1097 года они продолжили свой путь на святую землю. В июне 1099 года Иерусалим был взят крестоносцами. Взяв город они учинили настоящую резню. Это должно было стать предупреждением для византийцев, что в своем стремлении к власти и богатствам крестоносцы ни перед чем не остановятся. Но правители Византии не отнеслись к этому с должным вниманием.
На полвека в Византийской империи воцарилось спокойствие и благополучие. Но то было лишь затишье перед новой бурей. Папой Римским был объявлен Второй Крестовый поход. И 10 сентября 1147 года под стенами Константинополя вновь появилось воинство крестоносцев, состоявшее в основном из немцев и французов. Императору Иоанну Комнину удалось с помощью силы, дипломатии и денег склонить их к тому, чтобы покинуть византийские земли и отправиться далее в поход. Но грабежей, насилия и пожаров и в этот раз не удалось избежать. А отношения с вновь возникшими государствами крестоносцев стали еще более враждебными.
Смерть императора Мануила Комнина привела в 1180 году к борьбе за престол. А в 1181 году это вылилось в ожесточенные уличные беспорядки и кровопролитие. К борьбе за престол прибавилось недовольство народа большими поборами, коррупцией, засильем иностранных наемников, ремесленников и купцов. Вследствие крестовых походов западных иноземцев стало много. И они стали притеснять местных жителей. Из-за этого многие ремесленники, купцы стали терять доход. Только итальянцев насчитывалось более 60 тысяч. Так же было велико влияние генуэзцев и венецианцев, как в торговле, так и в военном плане. При этом, иноземцы вели себя вызывающе и с презрением относились к византийцам. Народ устал от них, ему требовался человек, который вернет византийцам контроль над торговлей и ремеслом. Таким человеком в глазах византийцев стал Андроник Комнин, являвшийся двоюродным братом умершего императора. Весной 1182 года произошел народный бунт. Византийцы громили дома чиновников и иноземцев. Самих же латинян они убивали, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. Горели богатые иноземные кварталы, корабли, церкви, больницы, школы. Мало кому удалось спастись. Но те, кто успел покинуть город до начала погрома, в отместку жгли и разоряли византийские селения по обе стороны Босфора и призывали запад отомстить за своих собратьев.
Погром латинских иноземцев позволил на волне народного ликования взойти на престол Андронику в 1183 году. С этого года началось жестокое подавление несогласных. Все эти события еще больше ухудшили отношения между Европой и Византией.
Иерусалим был взят Саладином и в 1189 году начался Третий Крестовый поход. Его возглавил Фридрих I Барбаросса. Особых успехов крестоносцы не достигли, ограничившись лишь локальными столкновениями с византийцами на Балканах.
Римский папа Иннокентия III, провозгласивший Четвертый Крестовый поход, желал чтобы Византия отказалась от своей самостоятельности в вере и приняла римскую католическую веру. Но император отказался. Это еще больше настроило Запад против Византии. Ведомые ненавистью и жаждой невиданной наживы крестоносцы двинулись в сторону Константинополя. По пути они захватили и разграбили венгерский город Задару. Удачным моментом для нападения на византийскую столицу стал очередной дворцовый переворот. Император Исаак II из династии Ангелов был свергнут братом Алексеем III. Сын Исаака II, Алексей, желая вернуть престол, заключил с крестоносцами договор, суля им несметные богатства.
В июне 1203 года флот крестоносцев почти беспрепятственно вошел в Золотой Рог, встав лагерем у Влахернского дворца. Флот самих же византийцев на тот момент был малочислен (так как византийские императоры полагались на наемный флот венецианцев) и не смог помешать этому. После захвата 17 июля крестоносцами нескольких башен и части крепостной стены император бежал, а его войско капитулировало. Народ освободил Исаака II, но крестоносцы, не желая терять обещанные богатства, провозгласили Алексея императором. Это привело к одновременному правлению двух императоров. Для того, чтобы расплатиться с крестоносцами император Алексей увеличил поборы с населения.
В результате недовольства императором в народе, в начале 1204 начался бунт, который привел к власти Алексея Мурчуфла. Крестоносцы не стали в открытую противостоять этому. Но все более уверенно чувствовали себя хозяевами положения, совершая грабительские вылазки в город. Вскоре они заключили договор о разделе Византии с венецианцами.В апреле того же года крестоносцы, возглавляемые Бонифацием Монферратским, начали штурм города со стороны Золотого Рога. Несмотря на отчаянное сопротивление, им удалось ворваться в город. Одна часть войска штурмом взяла стены, а другая, сделав пролом в стене, ринулась вовнутрь. Алексей Мурчуфл бежал из города. Защитники города проиграли. Начались пожары, уничтожившие две трети города. Крестоносцы насиловали, убивали, грабили всех подряд. Город захлебывался кровью. Были разрушены многие памятники архитектуры, сожжены древние манускрипты, разграблены храмы и дворцы, осквернены святыни.
Взятие крестоносцами Константинополя стало настоящим крахом великой византийской культуры, которая даже спустя десятилетия не смогла восстановить былое величие. Получившие власть над Константинополем на десятилетия, крестоносны стали вывозить из него все ценное в Европу. После падения столицы, центром византийской культуры стал город Никея. А византийская империя распалась на множество мелких государств. Крестоносцы основали Латинскую империю, столицей которой стал Константинополь. Венеция получила несколько городов на побережье мраморного моря и город Галата. Остальную часть составили Морейское латинское княжество, Никейская империя (ставшая в последствии центром сопротивления захватчикам), Трапезундская империя и Эпирский деспотат.
Спустя более полувека, после нескольких неудачных сражений, никейский император Михаил VIII Палеолог, заручившись поддержкой Генуи и Сельджукского Султаната, выступил на Константинополь. Летом 1261 года основные силы латинского императора Балдуина II находились в походе. Это стало удачным моментом для осады города. Проникнув в город, небольшой отряд сумел открыть ворота и впустить в город основные силы, которые возглавил Алексей Стратигопулос. Император Балдуин II бежал, а Михаил VIII был провозглашен императором Византийской империи, просуществовавшей еще почти два века.
Разграбление крестоносцами Константинополя. Образование Латинской империи.
Попытка папы Иннокентия 3 сразу после прихода к власти в 1198 году организовать крестовый поход не увенчалась успехом. Не смотря на активную пропаганду и частную инициативу крестоносцев, не один европейкой король активно не поддержал идею крестового похода.
Папа Инакентий3 постоянно вел переговоры с Венецией о доставке крестоносцев морским путем в Египет, куда предполагалось направить основной удар. Но венецианцы, установившие нормальные торговые отношения с арабами, начали двойную игру.
Венецианцы требовали плату за перевозку крестоносцев в Египет, крестоносцы не могли собрать требуемую сумму.
Наконец венецианцы согласились транспортировать войско крестоносцев с условием, что оно предварительно захватит далматский город Зару (хорватский город Задар), в котором по их сведениям находились базы морских пиратов. Зару был католическим городом и принадлежал в это время противнику венецианцев в Хорватии - Венгрии. Руководитель крестового похода маркграф Бонифаций Монферратский согласился этими условиями.
8 ноября 1202 года крестоносцы отплыли из Венеции в четвертый крестовый поход на 480 кораблях.
Через неделю крестоносцы взяли город Зару и разграбили её. Между крестоносцами и венецианцами возникла драка при дележе добычи. Из-за конфликта судьба дальнейшая экспедиция была под угрозой. Примирение было достигнуто благодаря усилиям папы. Папа осудил разграбление католического города, формально отлучил венецианцев от церкви, крестоносцев простил.
При посредничестве легатов Папы в Зару решалась дальнейшая судьба похода.
В город прибыл претендент на царский престол в Константинополе Алексей Ангел (Алексей 4), сын отстраненного от власти в Константинополе Исаака Ангела.
Алексей Ангел ещё в 1201 году добился аудиенции папа Иннокентия 3 и обратился с просьбой о помощи вернуть свергнутого и ослепленного его отца на византийский престол. Как показало дальнейшее развитие событий, поддержку от папы он получил. В Зару папские легаты, византийцы и руководители крестоносцев пришли к соглашению по захвату Константинополя. Крестоносцам объявили, что Алексей Ангел (Алексей 4) законный император Византии, отмстраненый от власти узурпатором. Задача перед крестоносцами была поставлена: вернуть трон его законному императору.
Крестоносцам за помощь в возвращении императорского престола А лексей Ангел обежал заплатить 200 тысяч марок, по тем временам огромную сумму.
23 июня 1203 года флот приблизился к Константинополю. 17 июля начался штурм города.
Город защищали только наемники и враги византийцев - пизанские купцы. После тринадцатидневной осады император Алексей 3 бежал, оставив город на произвол судьбы. Первого августа 1203 года Алексея Ангела короновали императорской короной.
После коронации он должен был выполнить обещание данное Папе о подчинении византийской церкви Римскому Папе, а так же выплатить крестоносцам огромную сумму денег (200 тысяч марок) за оказанные ему услуги. Деньги он собрать не смог, так как греки не признали его своим императором, религиозные требование Папы были отвергнуты.
23 января 1204 года в Храме Святой Софии собралась элита Константинополя: сенаторы, духовенство, богатые горожане. На общем собрании решили сместить Алексея 4 с престола. После приятия решения, заговорщики отправили Алексея 4 и его отца в темницу, где они были умерщвлены. Императором, под именем Алексея 5, был назначен придворный аристократ Алексей Дука по прозвищу Муцуфл. Крестоносцы в это время ещё находились у стен Константинополя в ожидании откупа, обещанного Алексием 4.
Алексий 5 потребовал, чтобы крестоносцы покинули территорию Византии, крестоносцы отказались - переговоры зашли в тупик.
Доставка продовольствия крестоносцам была затруднена. Нехватка продовольствия в зимнее время стало ощущаться остро, ненависть у крестоносцев к грекам возросла, они стали готовится к вторичному захвату города.
Алексей 5 приступил к организации обороны Константинополя.
Атаку на город крестоносцы начали 9 апреля 1204 года. 12 апреля 1204 года крестоносцы ворвались в Константинополь. Попытки Алексея 5 (Муцуфла) призвать жителей города к обороне не увенчались успехом. Алексей 5 бежал из города на шлюпке.
Крестоносцы, ворвавшись в город, приступили к его разграблению. И по варварским законам грабили три дня.
Как пишет очевидец происходящего Никита Хониат:
«Крестоносцы крушили святые изображения, выбрасывали мощи великомучеников, хватали святые сосуды и вырывали из них драгоценные камни…
Они ввели в храм лошадей и мулов, чтобы вывести оттуда церковную утварь.
На улицах, в домах и церквях слышен был плач и причитания».
Через три дня руководителями похода порядок был восстановлен.
В трех церквях собрали ценности, которые не успели прибрать к своим рукам крестоносцы во время трехдневного грабежа. Из собранного, четвертую часть выделили будущему императору, которого намеривались избрать, остальное поровну разделили между руководителями крестоносцев и венецианцев.
Было принято решение разделить земли Византии между участниками похода, как это было в Палестине после её завоевания. На императорский трон решили избрать императора из крестоносцев. Новое государственное образование вошло в историю, как Латинская империя.
Императором избрали графа Балдуина Фландского. Балдуин Фландский, чтобы как - то узаконить свои претензии на престол, отыскал вдову Исаака Ангела -Маргариту и женился на ней. Короновали нового императора 16 мая 1204 года. Другой предводитель крестоносцев Бонифаций Монферратский получил в свои владения окрестности греческого города Салоники (Фессалоники), где было образовано Фессалоникейское королевство. Венеция завладела обширной частью императорской территории и право свободной торговли в имперских владениях, Генную и Пизу таких прав лишили.
По договору с крестоносцами Венеции отошло ¾ города Константинополя и территории, дающие ей власть над Средиземноморьем; многие греческие острова, порты Греции, Крит, весь полуостров Пелопоннес…. Вся територия Византийской империи была разделена между крестоносцами.
Императора Алексея 5 латинянам удалось схватить, его привезли в Константинополь и сбросили с самой высокой колонны в городе.
После завоевания Византии между победителя начались борьба за власть. Первыми в борьбе за власть стакнулись император Балдуин и король Бонифаций, началась череда непрерывных войн на греческой территории. Ситуацию усугубилась тем, что болгарский царь Иоанница захватив часть Греции, стал совершать военные экспедиции в глубь её территории.
Сами Греки ненавидели завоевателей и помогали болгарскому царю Иоаннице с борьбе с латинянами. 14 августа 1205 года армия Иоанницы нанесла армии Балдуина поражение, 300 знатных рыцарей погибли, Балдуин попал в плен, дальнейшая судьба его неизвестна.
Нестабильность в новой Латинской империи сразу привела к её развалу. Крестоносцы не смогли утвердиться в Малой Азии, там образовались православные греческие государства: Никейская империя, Трапезунд. В Европе образовалось греческое царство Эпир.
Но латиняне все же смогли удержать власть на значительной части Византии благодаря тому, что приемник Балдуина на посту императора Генрих Фландский
смог договориться с греческой элитой, привлекая её к управлению Империей.
Болгар им удалось победить только в 1208 году.
Крестовые походы оказали разнообразное и глубокое влияние на взаимоотношения Запада и Востока, не только мусульманского, но и православного. С 12 на 13 апреля 1204 г. великий Константинополь пал, пал жертвой Четвёртого крестового похода. Святой для православных христиан центр был не просто захвачен, он был варварски разорён христианами, взявшими в руки оружие для освобождения "святых мест".
На протяжении многих столетий учёные пытались и пытаются разобраться в том, как же так получилось, что, вопреки первоначальному плану IV Крестового похода (1199-1204): сначала сокрушить главную цитадель мусульманского мира - Египет, откуда мусульманство черпало свои силы для борьбы с христианством, а затем освободить Иерусалим и Гроб Господень, крестоносцы захватили христианское государство - Византийскую империю, разграбили дочиста её столицу и на этом остановились, словно проблемы освобождения Святой земли и не было.
Как говорится, "благими намерениями вымощена дорога в ад". Откуда же берёт начало эта дорога, по которой прошли рыцари креста?
Точкой отсчёта следует считать 1054 год. Именно тогда, 950 лет назад, произошло разделение церквей на западную и восточную. Люди Запада считали византийцев еретиками и обвиняли их в расколе и отступничестве. Это непонимание с годами перерастало в ненависть. Например, в середине XII в., во время II Крестового похода, западный фанатик епископ Лангрский уже мечтал о взятии Константинополя и побуждал французского короля Людовика VII заявить, что "византийцы не являются христианами на деле, а лишь по имени", что они показали себя виновными в ереси, а изрядная часть крестоносцев полагала, что "греки вовсе не были христианами и что убивать их - меньше, чем ничто".
Инициатором IV Крестового похода, его душой, стал римский папа Иннокентий III (1198 -1216). Это был человек выдающегося ума и энергии, расчётливый и трезвый в оценках политик, ставивший во главу угла политические интересы папского Рима. Главной целью Иннокентия III являлось подчинение римскому первосвященнику всех христианских государств Запада и Востока. "Ваши слова - слова Бога, но ваши дела - дела дьявола", - писал папе политический деятель начала XIII века.
Подготавливая крестовый поход, Иннокентий III обратился также к византийскому императору Алексею III. В своём послании папа призывал не только выслать византийское войско для освобождения Иерусалима, но и поднял вопрос о церковной унии, за которой скрывалось намерение римских первосвященников ликвидировать самостоятельность греческой церкви, присвоить её богатства и доходы, привести к послушанию константинопольского патриарха, а вслед за ним - и самого императора. Таким образом, крестовый поход и церковная уния сразу же оказались тесно связанными друг с другом в политике Иннокентия III. Однако Константинополь отклонил домогательства римского папы. Это вызвало раздражение Рима, и с его стороны в адрес Византии прозвучали глухие угрозы.
Таким образом, антагонизм папства и Византии, основой которого служила политика римских понтификов, направленная на подчинение греческой церкви римской, явился первой (по времени возникновения) причиной перемены направления IV Крестового похода.
Вторая причина - захватнические устремления династии Гогенштауфенов, заявлявших о своём праве на константинопольский престол. В 1195 году в Константинополе в результате переворота был лишён власти (ослеплён и заточён в темницу вместе с сыном) император Исаак II Ангел, и на престоле утвердился его брат Алексей III (1195 - 1203). Германский король Филипп Швабский был женат на дочери Исаака II, Ирине. И теперь помышлял восстановить на престоле своего тестя, а в тайне же - младший отпрыск Фридриха Барбароссы и наследник Генриха VI стремился захватить власть в Византии.
Третья причина - алчность и авантюризм феодальных баронов: служение не Богу, а поиск богатства и власти. Рыцарь Робер де Клари, впоследствии ставший историком похода, откровенно напишет, что крестоносцы пришли в Византию, "чтобы завладеть землёй".
Четвёртая причина - ухудшение отношений между Венецией и Византией, стремление венецианских государственных деятелей устранить торговую конкуренцию в портах Средиземного и Черного морей и нежелание войны с Египтом. На франкском Востоке говорили, что для Венеции торговые прибыли несравненно важнее триумфа креста. Поэтому столкновения и раздоры с Византией учащались, и обращение крестоносцев к Венеции за помощью явилось для неё настоящим кладом. Именно здесь, в Венеции, и началось активное претворение плана - сделать из Константинополя "наковальню" для крестоносного "молота".
Дело в том, что династия Ангелов, правившая с 1185 года в Византии, представляла собой настоящую плесень на троне. Свергнувший тираничного Андроника Исаак II вскоре был смещён собственным братом Алексеем III, ослеплён и заключён в тюрьму вместе с сыном Алексеем. Но царевичу Алексею как-то очень своевременно помогли бежать.в 1201 г.
Пизанские купцы, которые помогли царевичу Алексею бежать, разумеется, были конкурентами венецианцев, но в данном случае явно делали вместе с ними какое-то общее дело. И дали юноше разумные (с точки зрения тех, кто готовит операцию против Византии) советы: «И те, кто помог ему ускользнуть из темницы и кто был с ним, сказали ему: «Сеньор, вот здесь, в Венеции, вблизи от нас, находится рать из лучших людей и лучших рыцарей на свете, которые собираются за море. Попроси их о милости, чтобы они сжалились над тобою и твоим отцом, которые столь несправедливо лишены своего наследства. И коли они захотят пособить тебе, ты согласись исполнить всё, что бы они устно ни предложили тебе. Быть может, их возьмёт жалость». И он сказал, что сделает это весьма охотно и что этот совет хорош».
Ради получения трона царевич Алексей готов был предать и продать всё: Родину, народ, веру. В обмен на помощь царевич обещал папе подчинить греческую церковь римской и обеспечить участие Византии в крестовом походе и выплатить крестоносцам 200 тысяч марок серебром, - гигантскую по тем временам сумму. (Потом ему было представлено разных денежных обязательств, выданных им, на сумму в 450 тыс. марок!) Теперь Иннокентий III получил полную возможность прикрыть свои истинные намерения в отношении Византии благовиднейшим предлогом - защитой "справедливого дела", восстановлением в Константинополе законного правительства.
Впоследствии говорили, что никто и не собирался везти крестоносцев в Египет, что венецианцы даже взяли с египтян деньги за саботаж переправы. Очень возможно. Республика Святого Марка славится хитроумием. В частности, договор о перевозке крестоносцев был составлен так ловко, что собравшиеся летом 1202 года в Венеции пилигримы оказались в полной зависимости от руководства республики. Дело в том, что предполагалось собрать 4,5 тыс. рыцарей, 9 тыс. оруженосцев и 20 тыс. пехотинцев, то есть в три раза больше, чем было налицо в момент подписания договора. Думали, что остальные как-то подтянутся. Но к сроку в Венецию прибыло никак не более 12 тыс. воинов. За себя они ещё могли заплатить, но венецианцы требовали платы и за тех, кто не явился. И формально были правы. Объявили, что не выйдут в море, пока не получат всю сумму. Поход был готов провалиться, ещё не начавшись.
Трудно точно сказать, глупы были рыцари, заключившие такой договор, подкуплены кем-то или с самого начала знали, что экспедиция направляется отнюдь не в Святую землю. Во всяком случае, воины, не посвящённые в тайны высокой политики, оказались перед фактом: плыть невозможно, а уже затраченные деньги могут просто пропасть. И тут дож Энрико Дандоло предложил гениальный выход: отправиться вместе с венецианским флотом в Далмацию, захватить торговый город Задар (совсем недавно бывший вассалом Венеции, а теперь принадлежавший венгерскому королю) и с полученной добычи расплатиться по счетам. Многие были возмущены, но другого выхода не было.
Бонифаций Монферратский, предводитель крестоносцев, согласился на эту сделку против единоверцев-христиан. 24 ноября 1202 Зара была взята и разграблена.
Завоевание и разгром христианского города в Далмации - таков был первый "успех", достигнутый в IV Крестовом походе.
Лицемерные запреты Иннокентия III крестоносцам - не чинить обид грекам - на деле не стоили ни гроша. Эльзасский монах Гунтер Пэрисский, писавший со слов своего аббата Мартина, участника посольства крестоносцев, направленного в Рим из Задара, признал со всей откровенностью: "верховный понтифик с давних пор ненавидел Константинополь и очень хотел, чтобы он, "если возможно, был завоёван без кровопролития католическим народом".
В первой половине 1203г. апреля крестоносцы, число которыхбыло около 30 000, были посажены на корабли, и направились кострову Корфу, где состоялось формальное представлениеучастникам похода греческого царевича Алексея.
В Скутари, на противоположном берегу Босфора, состоялись переговоры с представителем императора Алексея, в котором вожди похода заявили претензии на константинопольский престол от имени опального царевича. Десять галер с Алексеем на борту одной из них, несколько раз проплыли вдоль стен Константинополя в обе стороны, показывая жителям юношу. Эта акция не вызвала никакой реакции у защитников города и предводители похода начали всерьез готовиться к его штурму.
Пятого июля войска высадились в городском предместье Пера, расположенном на противоположной от города стороне залива Золотой Рог и начали со стороны суши штурм прикрывавшего с севера вход в залив галатского бастиона.
Шестого июля галеры венецианцев прорвали цепь, преграждавшую вход в Золотой рог, и, уничтожив малочисленные византийские корабли, высадили отряды крестоносцев в Галате, которая прикрывала с северной стороны вход в залив. Уже на следующий день рыцарям удалось взять Галатскую башню. Воины Алексея III фактически не приняли боя и поспешили укрыться за городскими стенами. Крестоносцы расположились лагерем напротив Влахернского дворца. Руководители похода разделили крестоносцев на семь отрядов и начали атаковать Константинополь одновременно с суши и с моря.
С 12 июля в районе стен от Влахерны и вниз по Золотому Рогу проходили непрерывные сражения. Оборону города возглавил зять Алексея III, молодой царедворец и военачальник, будущий никейский император Феодор Ласкарис. Семнадцатого июля начался приступ. Венецианцы, подогнав корабли вплотную к стене, сумели захватить около двух десятков башен, и закрепились в Константинополе на юго-восток от Влахерны, но не рискнули углубляться в город. Чтобы предотвратить контратаки охранявших стены византийских наемников, крестоносцы подожгли ближайшие строения: пожар уничтожил несколько кварталов. Алексей III бросил против сухопутных отрядов франков последние резервы, по некоторым оценкам общей численностью до 100 000 человек, но, несмотря на многократное численное превосходство византийцев, рыцари выдержали удар и заставили их оставить свои позиции, а затем и обратили в бегство. По другим источникам, армия Алексея не приняв бой, возвратилась в город. В любом случае с этого момента управление войсками было потеряно, в городе началась паника. Алексей III, оставив жену и детей и захватив с собой императорскую сокровищницу - около тонны золота "в изделиях" покинул город и отправился в северо-восточную Фракию.
Девятнадцатого июля утром в Константинополе, оставшемся без верховной власти, начались волнения, переросшие в антиправительственный бунт. Толпа провозгласила басилевсом слепого Исаака, которого привели из тюрьмы во дворец. Крестоносцы, тем не менее, задержали у себя царевича Алексея и отправили четырех депутатов к Исааку спросить его, намерен ли он вознаградить их за услугу, оказанную в пользу его сына. Исаак спросил о сумме и ответил: "Конечно, вы оказали такую большую услугу, что за нее можно бы отдать и всю империю, но я не знаю, из чего вам уплатить".
С июля по конец августа шли переговоры по разъяснению трудного вопроса о денежных обязательствах. Крестоносцы вынуждены были выпустить Алексея к Исааку в Константинополь, надеясь при его помощи побудить царя ратифицировать договор. Старик Исаак долго колебался, и наконец, поставил свою подпись.
Первого июля царевич Алексей торжественно въехал в город и был провозглашен соправителем. Но обстановка в Константинополе накалялась. 22 августа в результате стычки франков с жителями города вспыхнул второй пожар, в результате которого выгорела почти треть домов.
Посредством конфискации имущества приверженцев прежнего правительства, присвоения церковных ценностей и переплавки памятников искусства, Исааку к сентябрю удалось собрать 100 000 марок. Эту сумму следовало разделить поровну между венецианцами и крестоносцами, последним осталось из нее очень мало, ибо они должны были выплатить Венеции 35 000 марок. Этот взнос не удовлетворил крестоносцев, которые требовали следующих взносов, а Исаак не знал, откуда их взять. Прямым последствием этого было соглашение между Исааком и Дандоло, по которому крестоносцы обязались на год продлить свое пребывание в Константинополе, дабы, как говорилось официально, утвердить на престоле Исаака, на самом же деле, чтобы получить всю сумму по обязательствам царевича.
До 11 ноября Алексей вместе с маркграфом Бонифацием совершили несколько рейдов в юго-восточную Фракию, где покорили несколько городов. Почувствовав власть, Алексей начал постепенно выходить из-под контроля предводителей похода. В конце ноября состоялись переговоры Дандоло и Алексея. Дож в очередной раз потребовал исполнения своих обязательств, Алексей дерзко ему отказал, после чего боевые действия между латинянами и греками возобновились.
Армия, возглавляемая Дандоло и маркграфом Монферрат, снова оказалась под стенами Константинополя и вынуждена была начать его штурм. С приходом зимы в лагере крестоносцев начался голод. От смертей и дезертирства войско стало таять и предприятие уже почти завершилось позорным провалом, если бы не счастливое стечение обстоятельств. Двадцать пятого января 1204г. в Константинополе произошла очередная революция. Ее возглавил царедворец Алексей Дука, по прозванию Мурзуфл, принадлежавший к партии противников латинян. Организуя оборону города, он в то же время возбуждал народ и войско против царя Исаака. Старый и слепой Исаак, несмотря ни на что, больше дорожил расположением латинян, чем популярностью горожан, попытался спасти свой престол с помощью крестоносцев. Он обратился к их предводителям с просьбой ввести отряды в город для наведения порядка. Однако обращение последовало слишком поздно. Восстание в столице разрасталось.
Предложив крестоносцам вступить в город для водворения порядка, Исаак допустил ошибку. Переговоры по этому деликатному делу поручены были самому Мурзуфлу, а он выдал тайну народу. Тогда начался полный мятеж, во время анархии Алексей Дука был избран императором, а Исаак "не мог перенести горя" и умер, Алексей же был посажен в тюрьму и там убит. Мурзуфл сумел организовать оборону города, но в предпринятых вылазках несколько раз был разбит, после чего ограничился лишь защитой стен.
В начале марта 1204г. Энрике Дандоло, Бонифаций де Монферрат и другие предводители крестоносцев, не видя другого выхода из положения кроме как решительный штурм города и уничтожение власти византийских императоров, подписали договор о разделе византийского государства и дележа добычи. Было решено:
1) взять Константинополь военной силой и установить в нем новое правительство из латинян;
2) город предать разграблению и всю добычу, сложив в одном месте, разделить полюбовно; три четверти добычи должны идти на погашение долга Венеции и удовлетворение обязательств царевича Алексея, одна четверть - на удовлетворение частных претензий Бонифация и французских графов;
3) после завоевания города, 12 избирателей, по 6 от Венеции и крестоносцев, приступят к выбору императора;
4) тот, кто будет избран в императоры, получает четвертую часть всей империи, остальные делятся поровну между венецианцами и французами;
5) та сторона, из которой не будет избран император, получает в свою власть церковь св. Софии и право на избрание патриарха из духовенства своей земли;
Девятого апреля 1204 г рыцари предприняли первую попытку штурмовать город. На этот раз они нанесли удар по Константинополю с моря. Попытка штурма окончилась неудачно. Двенадцатого апреля был предпринят второй приступ. Венецианцы на нефах и галерах начали захватывать стены и башни с помощью перекидных мостиков. Одновременно другие воины пробили в стене брешь и потом уже изнутри города открыли трое ворот. Конница франков ворвалась в город, заставив войска Мурзуфла отступить. Сам он, не видя в дальнейшем возможности сопротивляться, ночью бежал из города. Думая, что уж теперь-то борьба разгорится с большой силой, рыцари окопались лагерем вблизи стен и не отважились продвигаться к центру, но не встретили в городе никого, кто бы дал им отпор.
Утром 13 апреля 1204 года войска так и не встретив сопротивления, заняли южную половину города, и в Константинополь торжественно вступил Бонифаций де Монферрат.
Последствия взятия Константинополя крестоносцами. После того, как сопротивление защитников Константинополя было сломлено и крестоносцы вступили в город, началась резня, в которой погибли около 2 000 жителей. При этом убивали, по словам очевидца в основном жаждущие мести пизанские колонисты, которых греки "репрессировали" и изгнали из города еще во время первого штурма. Влахернский и Буколеонский дворцы сразу же были заняты соответственно Балдуином и Бонифацием, которые немедленно выставили охрану и не допустили бессистемного разграбления накопленных там богатств.
Затем начались массовые грабежи. Вот что происходило в Константинополе последующие три дняй: Отряды крестоносцев бросились по всем направлениям собирать добычу. Магазины, частные дома, церкви и императорские дворцы были тщательно обысканы и разграблены, безоружные жители подвергались избиению. Счастливыми почитали себя те, кто успел в общей суматохе пробраться к стенам и бежать из города. В особенности нужно отметить варварское отношение латинян к памятникам искусства, к библиотекам и святыням византийским. Врываясь в храмы, крестоносцы бросались на церковную утварь и украшения, взламывали раки с мощами святых, похищали церковные сосуды, ломали и били драгоценные памятники, жгли рукописи. Многие частные лица составили себе богатства в это время, и потомство их в течение целых столетий гордилось похищенными в Константинополе древностями. Епископы и аббаты монастырей впоследствии подробно описали в назидание потомству, какие святыни и как приобрели они в Константинополе.
Вот далеко неполный перечень наиболее значительных реликвий, уничтоженных либо похищенных в дни грабежа.
Античные памятники и скульптуры:
бронзовая статуя богини Геры Самосской, возвышавшаяся на одной из площадей Константинополя;
бронзовый Геркулес, Лисиппа (придворного скульптора Александра Македонского), представившего знаменитого греческого героя усталым от подвигов, сидящим с накинутой на плечи шкурой убитого им немейского льва;
мифический герой греков - Беллерофон, восседавший верхом на крылатом коне Пегасе и устремлявшийся на Олимп. Статуя эта была столь огромна, что, как повествует Робер де Клари, "на крупе коня свили себе гнезда десять цапель: каждый год птицы возвращались в свои гнезда и откладывали яйца";
статуя волчицы, вскармливающей Ромула и Рема, легендарных близнецов, основателей Римского государства;
статуя Париса, бросающего яблоко Венере, которое стало яблоком раздора,
изваяние девы Марии, находившееся в центре города;
скульптурная группа Лисиппа - бронзовая с позолотой четверка лошадей (квадрига), стоявшая на императорской трибуне ипподрома. В 1204г. квадрига была поставлена над главным порталом венецианского собора св. Марка.
Христианские реликвии:
терновый венец Христа;
наконечник копья Лонгина, которым был пронзен Христос
ковчежец с кровью Спасителя;
кусочек дерева крестного;
крышка гроба Господня;
кость Иоанна Крестителя;
часть руки св. Иакова.
Во время разграбления города, впрочем, как и за весь последующий период правления франков (до 1261г.), погибли произведения античных художников и скульпторов, сотни лет хранившиеся в Константинополе. Мрамор, дерево, кость, из которых были некогда сооружены архитектурные и скульптурные памятники, подверглись почти полному уничтожению. Для того чтобы удобнее было определить стоимость добычи, крестоносцы превратили в слитки массу расхищенных ими художественных изделий из металла.
Затем начался ее раздел, при этом показанная и учтенная часть составила около 400 000 марок. После погашения долгов царевича Алексея и платы Венеции, остаток был разделен между крестоносцами. Каждому рыцарю досталось по 20 марок, кавалеристам - по 10, пехотинцам по 5 марок (в дележе участвовало около 15 000 человек). Если принять во внимание еще доли Венеции, и главных вождей, то общая сумма добычи оценивается до 900 000 марок. Лучше всего о громадных богатствах, найденных в Константинополе, может свидетельствовать предложение венецианских банкиров взять на откуп всю добычу и выплатить по 100 марок каждому пехотинцу, по 200 кавалеристу и по 400 рыцарю. Это предложение не было принято, так как было сочтено невыгодным.
Затем приступили к организации власти. Самые большие права на титул императора имел, предводитель похода Бонифаций. Но когда наступила пора выборов, то шесть избирателей от Венеции и шесть от Франции не рискнули предоставить столь сильному человеку верховную власть. Так как шесть венецианских избирателей естественно склонялись подать голос за своего дожа, то результат голосования зависел от франкских избирателей, которые состояли наполовину из духовенства Шампани и прирейнских областей Германии. Но избиратели от Франции могли дать перевес только такому лицу, которое будет поддержано и венецианцами. Дандоло не желал титула императора, притом Венеция хорошо обеспечивала свои права другими статьями конвенции, вследствие этого окончательное решение в выборе переходило к венецианским избирателям. Для Венеции не было политического расчета усиливать маркграфа де Монферрат, то есть северо-итальянского соседа, который в будущем мог стеснять Венецию. Таким образом, на первый план выступила кандидатура второго по родовитости и влиятельности предводителя похода графа Балдуина Фландрского, который представлялся менее опасным Венеции. При голосовании Балдуин получил 9 голосов (6 от Венеции и 3 от прирейнского духовенства), Бонифаций только 3. Провозглашение Бодуэна последовало 9 мая.
Этими событиями собственно завершается история Четвертого крестового похода.
В отечественной историографии Четвёртого крестового похода несмотря на разные методологические подходы (в дореволюционных исследованиях Васильева А.А. и Успенского Ф.И., в работах советского историка Заборова М.А., в докладах наших современников Литаврина Г.Г., Карпова С.П. и Лучицкой И.С.) прослеживается преемственность в отрицательном отношении к разграблению Константинополя крестоносцами. Причины захвата византийской столицы, описанные отечественными исследователями, во многом соотносятся с идеями Данилевского Н.Я. о борьбе Греко-Славянского и Германо-Романского миров. Современный историк Медведев И.П. так же видит в завоевании Константинополя крестоносцами в 1204 г. средневековый аналог событиям из современной международной жизни. Приводя пример борьбы США за идеалы демократии, автор отмечает, что налицо "тогда и сейчас стремление воспользоваться конкретной ситуацией, представившимся поводом; ...преследование и тогда и сейчас своих весьма корыстных и далёких от обозначенных идеалов целей".
В зарубежной историографии Четвёртого крестового похода вопрос о разграблении Константинополя крестоносцами не так однозначен. Описывая крестоносное движение в целом, декан исторического факультета Университета Сент-Луиса, автор работы "Четвертый Крестовый поход: завоевание Константинополя" Томас Ф. Мэдден в журнале "Crisis" от 4 апреля 2002 г. отмечал, что: "Крестовые походы были войнами, так что ошибкой стало бы не видеть в них ничего, кроме благочестия и добрых намерений. Как всегда на войне, насилие было жестоким (хотя и не в такой степени, как при современных войнах). Были неудачи и ошибки, были и преступления. Их-то обычно хорошо помнят по сию пору". Современный французский исследователь истории Востока (с XIII в. до н. э. до XIII в. н. э.), член французской академии Жорж Тат считает, что "С точки зрения христианства Четвёртый крестовый поход - позор в полном смысле слова".
Часть западных исследователей вообще обходит IV поход молчанием, ведь, как писал английский учёный Э. Брэдфорд: "Разрушение великой христианской цивилизации воинами христовыми - тема не из поучительных". А современный английский историк Дж. Годфрей горько сетует, что "в результате трагедии 1204 г. Европе и христианству были нанесены раны, которые, как выяснилось со временем, оказались неизлечимыми".
Русские историки отмечают, что история IV Крестового похода явилась историей откровенного попрания его вдохновителями, предводителями и участниками провозглашённых ими религиозных целей. Крестоносцы растоптали собственные религиозные знамёна, собственные "освободительные" лозунги и идеи. Они показали себя не воинами Христа, не благочестивыми христианами, а алчными авантюристами и беспринципными захватчиками.
Падение Византийской империи отразилось на всём дальнейшем ходе истории стран Востока и Запада, сказалось на будущем России, тесно связанной с Византией в церковном отношении. IV Крестовый поход сорвал завесу святости, ореол благочестия, которыми католическая церковь в течение веков окружала свои захватнические действия.
13 апреля 2004 г. Ватикан принёс извинения Константинопольскому патриарху Варфоломею за совершённое 800 лет назад разграбление крестоносцами столицы Византийской империи Константинополя (ныне Стамбул). "Это постыдный день для католичества и скорбный для православия", - говорилось в заявлении Ватикана. Константинопольский иерарх принял извинения Ватикана как правопреемник византийской Церкви. Данное заявление можно охарактеризовать как признание неблаговидной роли папского престола в разграблении византийской столицы в апреле 1204 г. Ввиду идейно-политических процессов современности изучение последствий захвата Константинополя крестоносцами является актуальным для исторической памяти поколений.
Оригинал взят у filin_dimitry в Разграбление латинянами Константинополя 13 апреля 1204 года...
Как известно, главной преградой на пути распространения папского всевластия был Царьград, имевший многовековую традицию столицы Восточного Православия. Против него и направляет свой натиск властолюбивый Рим в IX - XI веках, пытаясь подчинить своему влиянию Греческую Церковь путем утверждения новоявленного догмата о главенстве в Церкви папы. В своих притязаниях Римская курия натолкнулась на достойных противников в лице выдающихся первоиерархов Греческого Православного Востока - патриархов Фотия и Михаила Керуллария. Борьба закончилась поражением папства и отделением католического Запада от Вселенской Церкви.

(Разграбление латинянами Константинополя в 1204 году)
Неудача попыток римских епископов IX - XI веков распространить свое господство на Греческую Церковь путем богословских доводов и дипломатических уловок не остановила и не охладила агрессивных замыслов Римской курии против Православного Востока. С конца XI века Рим стремится подчинить своей власти восточный мир силою оружия, используя развернувшееся в то время на Западе завоевательное движение, известное под именем Крестовых походов. Наиболее ярким проявлением захватнических устремлений западноевропейских феодалов и Католической Церкви в этом движении был 4-й Крестовый поход, который закончился в 1204 году разгромом Константинополя и образованием Латинской империи. Завоевание Царьграда латинянами в 1204 году сыграло роковую роль в истории не только Греческого Востока, но и всего христианского мира. Варварское поведение рыцарей, распаленных видом богатств византийской столицы, расхищение католическим духовенством православных святынь, поругание веры греков и насильственное насаждение среди них латинства, - все это вызвало глубокий отклик во всех концах православного мира, включая и Русь. Неприязнь к латинству, до сих пор скорее литературная, стала стихийной. В отношениях между католическим Западом и Православным Востоком наступил новый фазис, характеризующийся дальнейшим углублением религиозного антагонизма.
Вполне понятно, что надлежащее освещение этого события, столь трагически отразившегося на взаимоотношениях церквей Западной и Восточной, представляет немалый интерес. Особенно важным является вопрос об истинных виновниках рассматриваемого предприятия. В существующей обширной литературе о 4-м Крестовом походе весьма разноречиво объясняются причины так называемого отклонения крестоносцев к Константинополю. Почти все западные историки - старые и новые - пытаются представить «перемену направления» этого похода результатом сцепления случайных обстоятельств, и таким образом оправдать захват Константинополя крестоносцами. Несостоятельность такого рода односторонних построений доказана еще старыми русскими учеными (В. Г. Василевский, Ф. И. Успенский, П. П. Митрофанов). К настоящему времени основные факты истории 4-го Крестового похода выяснены советскими византологами с достаточной полнотой и намечен правильный путь разрешения важнейших проблем, связанных с этим событием.
Среди причин, вызвавших 4-й Крестовый поход, центральное место занимал антагонизм папства и Византии. В основе предприятия лежала агрессивная политика папы Иннокентия III, поставившего своей целью установить политическое и церковное главенство Римской курии над феодальным миром не только Запада, но и Востока. Обстоятельства благоприятствовали осуществлению властолюбивых замыслов римского владыки.
К концу XII века Византия переживала состояние упадка и разложения. Ослабление империи было подготовлено долголетним правлением Мануила Комнина (1143 - 1180), который своей ошибочной внешней политикой довел страну до крайнего экономического истощения. Со вступлением на престол новой династии Ангелов разрушение византийского государства пошло быстрым ходом. Чрезмерная роскошь двора и безграничная расточительность, произвольные поборы и хищения, слабость воли и отсутствие какого-либо определенного плана в управлении государством, - все это создавало атмосферу недовольства и вело империю по пути распада. Центральная власть утратила почти всякий авторитет; провинции оказались в руках земельной аристократии и алчного чиновничества и подверглись самому жестокому налоговому гнету. Восстания масс вспыхивали повсеместно.
Отмеченное печальное положение Византийской империи не могло укрыться от западных ее соседей, среди которых уже давно созревала мысль захватить и разделить между собой остатки византийских владений и богатств Алчное желание ограбить несметные сокровища Константинополя, накопленные веками, подогревалось фанатичной ненавистью латинян к «схизматикам» - грекам. К этому присоединилось крайнее раздражение, вызванное на Западе неудачами 3-го Крестового похода (1189 - 1190), причину которых объясняли коварным предательством греков.
Во главе агрессивных замыслов, направленных против Византии, стала Венеция, которая была обеспокоена растущей враждебностью византийцев и соперничеством других итальянских городов - Генуи и Пизы. Венецианские политики и, в частности, дож Венеции Дандоло пришли к выводу, что лучшим способом поднять политическое и экономическое могущество Венеции явится завоевание распадающейся Византийской империи. Однако подлинным вдохновителем и организатором крестоносного движения против Византии был папа Иннокентий III.
Укрепление влияния Римской курии в Византии было желательно для папства в трех отношениях: 1) оно содействовало бы обогащению Рима путем присвоения богатств и доходов Греческой Церкви; 2) явилось бы важным шагом к дальнейшему расширению влияния папства на Востоке и 3) усилило бы папство в его борьбе против притязаний Штауфенов на преобладание в феодальном мире. Все эти интересы папства и определили позицию Иннокентия III по отношению к Византии во время Четвертого крестового похода.

(Инноке́нтий III (лат. Innocentius PP. III, в миру - Лотарио Конти, граф Сеньи, граф Лаваньи, итал. Lotario dei Conti di Segni; ок. 1161 - 16 июля 1216) - папа римский с 8 января 1198 по 16 июля 1216 года)
Первоначальной целью похода был Египет, под властью которого находилась в то время Палестина. Иннокентий III проявил кипучую деятельность в деле организации этого похода. Папские послания были отправлены ко всем христианским государям; папские легаты обходили Европу, обещая участникам похода отпущение грехов и целый ряд мирских житейских выгод; кресноречивые проповедники воодушевляли народные массы. Настойчивые призывы римского первосвященика нашли отклик почти во всех странах католического Запада и, прежде всего, среди воинственного рыцарства Франции и Фландрии.
Но уже во время этих подготовительных мероприятий Иннокентий III тайно вынашивал планы использовать силы Запада против Византии. В 1198 и 1199 гг. он в специальных посланиях потребовал от греческого императора Алексея III согласия на церковную унию на условиях подчинения Православной Церкви Риму и на участие Византии в Крестовом походе. В случае неповиновения он угрожал императору «сильной бурей», имея в виду, очевидно, направить против Алексея III феодальные силы Западной Европы в «защиту» низложенного императора Исаака II Ангела .
В дальнейшем, как увидим, эти неясные еще угрозы Иннокентий III стремится привести в исполнение.
Крестоносцы должны были собраться в Венеции, чтобы договориться с Венецианской республикой о перевозке их на Восток. Однако дож Венеции Энрико Дандоло, непримиримый враг византийцев и вместе с тем тонкий политик и ловкий коммерсант, решил сделать из этого предприятия торговую операцию и направить собравшиеся крестоносные силы против Византии. Он предложил вождям похода заключить договор, по которому крестоносцы обязывались выплатить Венеции за фрахт судов для перевозки 85 тысяч марок (1105 тысяч золотых рублей), заранее зная, что такой суммы они не в состоянии будут уплатить. Этот договор представлен был на утверждение папе.
Иннокентий III знал о напряженности отношений между Венецией и Византией: это ни для кого не составляло тайны. Кроме того, папа понимал всю невыгоду для Венеции содействовать походу против Египта, с которым республика поддерживала оживленные торговые сношения. Наконец, не могла укрыться от такого проницательного политика, как Иннокентий III, вся тяжесть и даже невыполнимость для крестоносцев договорных условий.
Все это вместе взятое не могло не вызвать у папы подозрения, что даже Энрико Дандоло задумал использовать крестоносное ополчение против христиан. И тем не менее, Иннокентий III в мае 1201 года утвердил - и даже «весьма охотно» - договор крестоносцев с Венецией.
Санкционировав предприятие Венеции, возможные последствия которого он безусловно предугадывал, папа выступил как активный и сознательный соучастник и покровитель этого предприятия. Иннокентий III в сущности «благословил» венецианцев на осуществление захватнических замыслов против Византии. Планы Дандоло в известной мере совпадали с интересами Римской курии. Недавние угрозы Иннокентия III по адресу византийского императора получали некоторую реальную основу. Вскоре для осуществления папских замыслов представились новые возможности .
Как и следовало ожидать, собравшиеся в Венеции крестоносные ополчения оказались не в состоянии уплатить венецианскому правительству условленной по договору суммы в установленные сроки. Тогда Дандоло предложил крестоносцам в счет невыплаченных денег завоевать для Венеции город Зару (Задар), расположенный на Далматинском побережье Адриатического моря, ввиду того, что незадолго перед тем он отпал от Венеции и перешел под власть венгерского короля. Крестоносцы согласились. Зара была взята и подверглась разгрому. С жителями христианского города крестоносцы обращались как с неверными: брали в плен, продавали в рабство, убивали; церкви были разрушены и подверглись расхищению. Поступок с Зарой был в высшей степени компрометирующим Крестовый поход эпизодом. Вот в каких выражениях он высказался по поводу совершившегося факта в письме к крестоносцам: «Увещеваем вас и просим не разорять больше Зары. В противном случае вы подлежите отлучению от церкви и не воспользуетесь правом индульгенции». Но этот выговор папа смягчает следующим, скоро за ним присланным, разъяснением: «Слышал я, что вы поражены угрозой отлучения от церкви, но я дал приказ находящимся в лагере епископам освободить вас от анафемы, если искренне покаетесь ». Нечего и говорить, что папа мог бы наложить интердикт на все предприятие, если бы он уже не связал себя ранее согласием смотреть сквозь пальцы на подготовленную авантюру .
Ввиду глубокой осени крестоносцы вынуждены были остаться в Заре на зиму и в результате снова задолжали венецианцам.
До сих пор хитрый Дандоло и папа Иннокентий III держали свои планы похода на Византию в большом секрете. Поводом к открытым мероприятиям в данном направлении послужило появление на Западе византийского царевича Алексея Ангела, сына низвергнутого и ослепленного императора Исаака. Царевич Алексей, спасшись из темницы, с помощью пизанцев бежал в Рим, чтобы заручиться поддержкой со стороны папы. Источники не дают прямых указаний относительно того, как принял папа бежавшего царевича. Но весь дальнейший ход событий и отдельные свидетельства хроник дают основание заключить, что уже тогда между Иннокентием III и царевичем Алексеем был заключен договор, по которому папа обещал восстановить на византийском престоле юного Алексея и его отца Исаака на условиях подчинения Греческой Церкви Риму. Особенно показательными в данном отношении являются данные Новгородской летописи. Русский летописец, очевидец захвата Константинополя, имевший возможность беседовать с участниками похода, приводит наставления, с которыми Иннокентий III обратился к крестоносцам. Он рекомендовал им посадить на византийский престол Алексея и лишь после этого идти дальше на Восток: «Такоже посадяче его на пръстолъ, поидете же къ Иерусалиму въ помочь » . Близкие к версии Новгородской летописи известия по данному вопросу имеются в некоторых западноевропейских хрониках, а также у византийских писателей - Никиты Хониата и Георгия Акрополита. Последний, например, пишет, что папа «преклонившись его (царевича Алексея) просьбами, а еще более обещаниями (они были, - подчеркивает автор, - очень велики), поручил отрока вождям войска с тем, чтобы они, свернув с предстоящего пути, возвели его на отцовский трон и взяли с него издержки, какие будут сделаны в дороге и у Константинополя » .
После свидания с папой царевич Алексей направился на север, в Германию, к своему зятю, германскому королю Филиппу Швабскому, женатому, как известно, на Ирине, сестре Алексея и дочери Исаака. Филипп Швабский еще раньше совместно с Бонифацием Монферратским, вождем крестоносцев, обсудил возможности направить Крестовый поход в сторону Константинополя. Теперь он решил обратиться к Венеции и крестоносцам с прямым предложением помочь Исааку и его сыну Алексею в восстановлении их на византийском престоле и направить Алексея вместе с своими послами в лагерь крестоносцев для заключения соответствующего договора.
Послы явились в Зару в январе 1203 года. Все то, что до сих пор составляло секрет для рыцарей и простых воинов, но что обдумано было Филиппом Швабским, Иннокентием III, Бонифацием Монферратским и Энрико Дандоло, - все это всплыло теперь наружу. Филипп делал следующее предложение крестоносцам:
«Синьоры! Я посылаю к вам брата моей жены и вручаю его в руки Божии и ваши. Вы идете защищать права и восстанавливать справедливость, вам предстоит возвратить константинопольский трон тому, у кого он отнят с нарушением правды. В награду за это дело царевич заключит с вами такую конвенцию, какой никогда и ни с кем империя не заключала, и, кроме того, окажет самое могущественное содействие к завоеванию Святой Земли. Если Бог поможет нам посадить его на престол, он подчинит Католической Церкви Греческую империю. Он вознаградит вас за убытки и поправит ваши оскудевшие средства, выдав вам единовременно 200 тысяч марок серебра, и обеспечит продовольствие для всей армии. Наконец, вместе с вами он пойдет на Восток или предоставит в ваше распоряжение корпус в 10 тысяч человек, который будет содержать за счет империи в течение одного года. Сверх того даст обязательство всю жизнь содержать на Востоке отряд в 500 воинов » .
Благодаря стараниям Дандоло и предводителя крестоносцев итальянского князя Бонифация, маркиза Монферратского, договор на означенных условиях был заключен, и поход на Константинополь решен окончательно.
Совершенно справедливо, что такой конвенции не заключала еще империя: условия договора были лестны для папы, ибо подчиняли Греческую Церковь Католической, и весьма выгодны для вождей, ибо обеспечивали им хорошую сумму. Что касается Венеции, то она, по тайному соглашению с вождями похода и германским королем, выговорила себе львиную долю из той добычи, которая будет захвачена крестоносцами.
В первой половине апреля 1203 года крестоносцы сели на суда и направились к острову Корфу, где состоялось формальное представление греческого царевича Алексея, участника похода. В конце июня того же года крестоносный флот появился у Константинополя. По свидетельству участника похода, французского писателя Виллгодужа, когда крестоносцы увидели с своих кораблей всю громаду царственного города, они поражены были его величием и богатством. Высадившись на азиатском берегу, крестоносные рыцари в первую очередь разграбили прекрасное предместье столицы Халкидон.
Византийский император Алексей III укрылся в столице, надеясь на ее крепкие стены и недоступность с моря. Попытки его завязать мирные переговоры были высокомерно отвергнуты крестоносцами. Между тем среди последних вызвало большое недоумение то обстоятельство, что византийцы не изъявили никакой преданности царевичу, которого крестоносцы пришли посадить на престол. Несколько раз латиняне подводили его к городской стене, представляя народу, но греки каждый раз встречали его враждебными насмешками и выражали готовность защищаться против иноземных пришельцев.
Возможно, что если бы осада велась только с суши, византийцы с помощью наемных войск ее выдержали бы. Город был достаточно защищен высокими стенами. Наиболее слабое место было со стороны Золотого Рога, который врезался в середину города и вход в который преграждался огромной железной цепью.

(Алексей III Ангел (греч. Αλέξιος Γ" Άγγελος; около 1153 - 1211) - византийский император, правивший в 1195-1203 годах)
В середине июля крестоносцы овладели предместьем Галатой, на левом берегу Золотого Рога, перерезали защищавшую вход в него железную цепь и проникли с своим флотом в гавань. Этим, в сущности, обеспечивалось командование городом, так как крестоносцы могли теперь сделать высадку, где угодно. И, действительно, один из отрядов внезапно появился внутри столицы и поджег ее в разных местах. Произошло всеобщее смятение. В довершение всего безвольный и трусливый Алексей III бежал из города, захватив с собой государственную казну и драгоценности.
На престоле восстановлен был освобожденный из темницы Исаак II, его соправителем был объявлен сын его царевич Алексей. Крестоносцы достигли своей цели. Император Исаак подтвердил договор, заключенный Алексеем с вождями похода, хотя и признал его тяжким и трудно исполнимым. Во избежание столкновений между греками и латинянами, последним отведено было для проживания предместье Галата.
Руководители похода и новый император Алексей IV поспешили известить о случившемся папу Иннокентия III. В своих ответных письмах папа выражал полную радость и только настаивал, чтобы все обещания, данные царевичем Алексеем, были выполнены в точности. Однако выполнить договор византийское правительство оказалось не в состоянии. Византийская казна была пуста. Конфисковав частное имущество императорской фамилии и собрав драгоценную утварь из многочисленных константинопольских церквей, Исаак и Алексей едва смогли выплатить половину обусловленной договором контрибуции - 100 тысяч марок.
Реквизиция церковных ценностей дала новую пищу для антилатинской пропаганды, усилившей ту ненависть против пришельцев, которая с самого начала осады наблюдалась среди населения Царьграда. Дело часто доходило до кровавых стычек между греками и франками. Во время одного из таких столкновений пьяные фламандцы и итальянцы снова зажгли город, результатом чего был страшный пожар, длившийся двое суток и захвативший в ширину пространство до двух километров в центральных кварталах города. Пламя истребило всю середину столицы от Золотого Рога до Мраморного моря. Сгорели торговые ряды,
оптовые склады местных и привозных товаров, многочисленные промышленные заведения, прекрасные памятники античного искусства, здания присутственных мест, библиотеки, академия и огромное количество частных домов. Потери строениями, имуществом и художественными ценностями были колоссальны.
Ненависть населения города направилась против императора Исаака и его сына, приносивших интересы государства в жертву крестоносцам. В феврале 1204 года в Константинополе вспыхнуло восстание. Духовенство и народ, собравшись в храме св. Софии, объявили Исаака II и его сына Алексея низложенными и избрали на императорский престол Алексея Дуку, прозвищем Мурзуфл. Низложенный Алексей IV по приказанию Мурзуфла был задушен в темнице, а его отец Исаак умер от испуга при вести о смерти сына.
Алексей Мурзуфл считал себя свободным от всяких обязательств в отношении латинян и решил вести с ними борьбу до последней крайности. На предложение подчинить Греческую Церковь Римскому престолу он отвечал, что лучше согласен погибнуть со своими подданными, чем оказаться под влиянием папы. Столкновение между греками и крестоносцами становилось неизбежным. В марте 1204 года был выработан и заключен договор между Венецией и рыцарями о завоевании и разделе Византийской империи. Если предыдущие действия крестоносцев могут еще иметь для себя какое-то оправдание, то с марта 1204 года всякий вид легальности был уже оставлен. Договор начинался такими знаменательными словами: «Прежде всего мы, призвав имя Христа, должны вооруженной рукой завоевать город ». Главные пункты договора были следующие: 1) установить во взятом городе новое правительство из латинян; 2) город предать расхищению и всю добычу разделить полюбовно: три доли из добычи должны идти на погашение долга Венеции и удовлетворение обязательств царевича Алексея, четвертая доля - на удовлетворение частных претензий Бонифация и французских князей; 3) по завоевании города, 12 избирателей, по 6 от Венеции и Франции, приступят к выбору императора; 4) избранный в императоры получает четвертую часть всей империи, остальные три части делятся поровну между Венецией и рыцарями; 5) та сторона, из которой не будет избран император, получает в свою власть церковь св. Софии и право на избрание патриарха из духовенства своей земли; 6) договаривающиеся обязываются год прожить в Константинополе, чтобы утвердить новый порядок вещей; 7) из венецианцев и французов избрана будет комиссия из 12 лиц, на обязанности которой будет лежать распределение ленов и почетных должностей между всеми участниками похода; 8) все вожди, имеющие получить лены, дадут императору вассальную присягу, от которой освобождается один дож Венеции .

(Гюстав Доре: Алексей V Мурзуфл ведёт переговоры с Энрико Дандоло. Алексей V Дука Мурзуфл (греч. Αλέξιος Ε" Δούκας Μούρτζουφλος; умер в декабре 1205) - византийский император с 5 февраля по 12 апреля 1204 года. Энри́ко Да́ндоло (итал. Enrico Dandolo, 1107 или 1108 - май 1205) - 41-й венецианский дож)
Между тем с той и с другой стороны шли деятельные приготовления к окончательной развязке.
9 апреля крестоносцы начали штурм столицы Византии, причем главный удар был направлен со стороны Золотого Рога при содействии флота. Проникнув через один вход в город, латиняне третий раз подожгли его, чтобы облегчить себе путь продвижения. Этот, третий за время осады, пожар завершил разорение Константинополя. По словам историка-очевидца, от третьего пожара в Царьграде погибло больше домов, чем насчитывалось в трех крупных городах Франции.
Видя невозможность дальнейшего сопротивления, Алексей Мурзуфл тайно ночью бежал. Наступила полная анархия, воспользовавшись которой крестоносцы 13 апреля окончательно овладели городом.
Началось знаменитое в летописях средневековья опустошение Царь-града, надолго оставшееся памятным всему Востоку. Бонифаций обещал войску трехдневный грабеж и не отменил своего слова. Никогда еще столица Восточного Православия не подвергалась такому невероятному разгрому. «Сами латиняне так и озаглавливали свои описания событий 1204 года: «Гибель» или «Опустошение города». Для них взятие Константинополя было небывалой удачей, славным подвигом, торжеством, посланным Богом Своим верным сынам » .
В первую очередь подверглись расхищению могилы императоров, из которых извлечены были все находившиеся в них драгоценные украшения и сокровища. Не одна корысть привлекала латинян к царским усыпальницам, но и надругательство с политической целью. В храме Иоанна Богослова был погребен Василий Болгаробойца, перед которым трепетала и Италия. Теперь латиняне вытащили высохшее старческое тело и, всунув в руки волынку, прислонили к стене разграбленной церкви. В таком положении оно оставалось до изгнания латинян из Константинополя.
Не пощажены были завоевателями и замечательные памятники античного искусства, собранные Константином и его преемниками. Образованный греческий историк Никита Хониат составил большой список бронзовых статуй замечательной художественной работы, которые были разбиты рыцарями и расплавлены на монету. Только четыре бронзовых коня, приписываемые древнему греческому скульптору Янзиппу, стоявшие на ипподроме, были увезены дожем Дандоло в Венецию, где они и до сих пор украшают портал собора св. Марка.
Но франки «разбогатели», по выражению латинских же писателей, преимущественно расхищением несметных сокровищ в церковных ризницах и алтарях, накопленных веками; их не касалась еще ни рука чужеземца, ни алчность расточительных греческих царей. Теперь латиняне взяли все, что нашли.
Что касается частных жилищ, то каждый крестоносец захватывал себе по выбору дом и объявлял его своей добычей со всем находящимся в нем имуществом; с обитателями же он поступал так, как заблагорассудится. Убийства безоружного населения, надругательство над женщинами, продажа в рабство детей, пьянство и грабежи - такова картина деятельности рыцарей в первые три дня после захвата Константинополя.
По словам очевидца, историка Вилльгардуэна, крестоносцы получили такую добычу, какой никто еще не получал от сотворения мира. Эта добыча была так велика, что ее не могли сосчитать. «Она заключала в себе золото, серебро, драгоценные камни, золотые и серебряные сосуды, шелковые ткани, меха и все, что есть прекрасного в этом мире ». Новгородская летопись останавливается особенно на описании ограбления церквей и монастырей. Упоминание о разгроме Царьграда в 1204 году имеется в русских хронографах .
На четвертый день завоевания вожди похода приказали через глашатаев, чтобы воины немедленно отнесли свою добычу в три церкви для раздела ее, согласно прежнему договору. Как отмечает историк, не все вели себя честно, и при самом разделе договор не был соблюден в точности. Три восьмых досталось венецианцам сверх 50 тысяч марок серебра за провоз крестоносцев, две восьмых выделено императору, а остальные три восьмых пошли на всех крестоносцев, причем конные получали вдвое против пеших, а рыцари вдвое против всадников простого звания. Духовенству предполагалось дать лишь святыни, но они запротестовали, ссылаясь на свои подвиги при взятии, и им также выделена была часть денег, причем их приравняли к конным воинам простого звания.
Говоря о роли латинского духовенства при захвате Константинополя, мы должны отметить, что оно не уступало в алчности рыцарству, причем обратилось, главным образом, к расхищению священных предметов: чудотворных икон, святых мощей и других святынь Православной Церкви. В Константинополе были собраны святыни со всего Востока: из Палестины, Сирии и Александрии. Большая часть этих реликвий во время разгрома византийской столицы стала добычей латинского духовенства и была вывезена на Запад.
Более всех увезли венецианцы, которые оставались хозяевами в латинской патриархии Константинополя. Но немало константинопольских святынь переправлено было в церкви Рима, Амальфи, Генуи, Лиона, Парижа, городов Бельгии и прирейнских стран. Кажется, редкая западноевропейская церковь не получила чего-либо из «священных останков» Константинополя.
Сохранилось составленное греками перечисление преступлений, совершенных латинянами в Константинополе при его взятии. Согласно этому известию, латиняне сожгли тысячи церквей. В самый алтарь св. Софии они ввели мулов для нагрузки церковных богатств, загрязнив святое место; разбили престол, бесценный по художеству и материалу, Божественный по святости, и расхитили его куски, их вожди въезжали в храм на конях; священные сосуды и разную церковную утварь превращали в предметы житейского обихода. Иконы они жгли, топтали, рубили топорами, клали вместо досок в конюшнях. Латиняне разграбили могилы царей и цариц и «обнаружили тайны природы ». В самых храмах они зарезали многих греков, священнослужителей и мирян, искавших спасения, и их епископ с крестом ехал во главе латинской рати. Они обесчестили многих женщин и даже монахинь, а мужчин продавали в рабство сарацинам. И таковые преступления совершены были против ни в чем не повинных христиан христианами же, напавшими на чужую землю .
Насилия и злодеяния крестоносцев достигли такой степени, что сами вожди не могли их остановить. Население устремилось вон из столицы. Окрестности Константинополя наполнились беженцами, которые сами не знали, где найти спасение. Среди этих беженцев видели и благочестивого патриарха Иоанна Каматира, чрезвычайно бедно одетого и ехавшего на осле. После нескольких дней беспокойного пути он едва нашел себе убежище в одном из селений Фракии, где и провел остаток своей жизни.
Расхитив все, что могли захватить, и разделив между собою добычу, крестоносцы приступили к избранию латинского императора и латинского патриарха, согласно договору, заключенному в марте 1204 года.
Императором был избран Болдуин, граф Фландрский. Ему предназначалась 1/4 империи вместе с Константинополем, из которого бежало или погибло 4/5 населения. Остальные 3/4 были поделены между Венецией и вождями крестоносцев, причем Венеция захватила все лучшие приморские города, все наиболее плодородные и важные в торговом отношении местности, в частности о. Крит. Бонифаций Монферратский получил Фессалонику, Македонию и Фессалию на правах королевства. Остаток империи был разделен на мелкие феодальные владения между другими участниками похода.
Таким образом, крестоносцы овладели, как своей добычей, государством, население которого по своему общему культурному уровню стояло выше западноевропейцев. Огромное большинство покоренного населения заняло непримиримо враждебную позицию по отношению к латинским завоевателям и питало глубокое презрение к их прислужникам из греков, «к этим рабским душам, которые ради корыстолюбия стали врагами своей родины, к этим изменникам, которые для обеспечения своей собственности поддались завоевателям вместо того, чтобы оставаться в вечной войне с латинянами ».
Одним из непосредственных результатов латинского завоевания явилось объединение населения бывшей Восточной империи в общей ненависти к латинянам. Эту ненависть питала и усиливала церковная политика крестоносцев, заключавшаяся в насильственном насаждении среди греков католической религии.
Вместе с избранием латинского императора во главе Греческой Церкви был поставлен латинский патриарх Фома Морозина, бывший иподиакон Римской Церкви, выдвинутый на патриаршую кафедру Венецией.
Папа первоначально для приличия выразил свое негодование по поводу злодеяний крестоносцев, но потом простил им все гнусности и одобрил все назначения. В своих посланиях на имя нового патриарха Иннокентий III определил его права и власть, поставил его выше Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархов, предоставил ему право носить перед собою крест везде, кроме Рима, помазывать миром константинопольских императоров, возводить по заслугам достойных лиц на разные церковные должности, распоряжаться недвижимою собственностью патриаршего дома, но в то же время обязал его клятвою на верность Римскому престолу. Для общего наблюдения за состоянием церковных дел на Востоке, из Рима назначен был особый легат, в качестве наместника папы.
Почти во всех греческих областях, занятых крестоносцами, утвердилась латинская иерархия. Чтобы укрепить свое господство, папа учредил целый ряд новых митрополий и епископий с латинскими иерархами во главе. В стремлении окатоличить греческий Восток латинские прелаты не останавливались перед прямым гонением на греческих христиан. Прибывший в 1213 году в Константинополь папский легат Пелагий запретил греческое богослужение, закрыл православные церкви и бросил в темницу православных священников, угрожая упорным даже смертною казнью.
Вполне понятно, что Латинская империя, построенная на политическом гнете и религиозном насилии, не могла быть долговечной. Через 57 лет (1261 г.) она была ликвидирована и западные пришельцы изгнаны из византийских владений. Но господство латинян на Востоке в XIII веке, начавшееся захватом и разорением Константинополя в 1204 году и имевшее целью латинизировать Греческую Церковь, оставило глубокий след в душе греческого народа. Оно было наиболее ярким проявлением агрессивных замыслов папства против Восточной Церкви, которые всегда служили основным препятствием на пути к братолюбивому сближению Востока с Западом.
(А. Иванов, доцент Моск. дух. Академии. Издательство Московской Патриархии, 2012)
____________________________________
Примечания:
М. А. Заборов, Папство и захват Константинополя крестоносцами в начале ХШ века, «Византийский Временник», 1952, V, стр. 156 - 157.
М. А. Заборов, Цит. соч., стр. 158 - 159.
Акад. Ф. И. Успенский, История Византийской империи, т. III, изд. АН СССР, М. - Л., 1948, стр. 370 - 371.
Новгородская первая летопись, М. - Л., 1950, стр. 46.
М. А. Заборов, Цит. соч., стр. 164.
Акад. Ф. И. Успенский, Цит. соч., стр. 371.
Акад. Ф. И. Успенский, Цит. соч., стр. 376 - 377.
Акад. Ф. И. Успенский, Цит. соч.. стр. 404.
Хронограф редакции 1512 г. СПБ, 1911, стр. 391 - 392 (Полное собрание русских летописей, т. XXII).
Акад. Ф. И. Успенский, Цит. соч., стр. 413.